Магическая сила слова
Олег Федотов
1. Номинация, или Отчего лимон кислый?
Самый простой способ так или иначе обозначить предмет, качество или действие— это назвать их, найти подходящее к случаю слово и произнести либо написать его. Например, произнесённое или написанное слово "лимон" живо воспроизводит образ ярко-жёлтого светящегося плода со специфическим запахом и даже вызывает во рту характерное слюновыделение (опыт напоминает нам о его резком кислом вкусе). Об этом знают и адресант, писатель, и адресат, рецептор, воспринимающий текст в устной или письменной форме. Главная проблема поэтому, извечно мучающая художника, состоит в том, чтобы найти самое точное, соответствующее задуманному образу слово.
Есть писатели, обладающие поистине счастливым даром почти не задумываясь облекать свои мысли в единственные, без какого-либо напряжения найденные словесные формулировки, для других борьба со словом составляет львиную долю их творческих забот. Черновики первых напоминают беловики вторых. Впрочем, бывают и исключения. Пушкин, пользовавшийся у современников и потомков репутацией художника ярко выраженного моцартианского начала, оставил в своих черновиках следы титанических усилий преодолеть сопротивление материала и добиться поразительной точности и прозрачности словесного воплощения самой тонкой поэтической мысли, самой сложной образной картины. Так, например, в поисках подходящего эпитета к "наковальне" в «Цыганах» поэт перебрал семь вариантов: "чугунной", "холодной", "избитой", "старинной", "кузнечной", "убогой", "тяжёлой", пока не остановился на восьмом (!), синтезировавшем в себе, как это ни парадоксально, признаки всех предыдущих, отвергнутых: "походной":
Всё живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утра в путь недальний,
И песни жён, и крик детей,
И звон походной наковальни. . .
Но слово, даже самое точное, уникальное, единственное, ещё не составляет полного текста; оно приходит, живёт в произведении и распознаётся воспринимающим только в окружении других слов, в контексте. Пушкинская строка "Унылая пора! Очей очарованье. . . " не может быть без урона заменена на, казалось бы, аналогичную: "Унылая пора! Ты глаз очарованье. . . ", потому что словосочетание "Очей очарованье" неповторимо, как счастливая любовная пара: эти два слова льнут друг к другу, рифмуются по звучанию, по смыслу, по стилю, по соразмерности — именно поэтому им никак нельзя разлучаться!
Номинация как простое называние предмета, признака или действия, как художественная реализация в соответствующей словесной формулировке определённой образной мысли является по преимуществу изобразительным средством поэтического языка, поскольку её основной пафос — точное воспроизведение очертаний объективного мира. Вместе с тем, как можно было судить по обоим пушкинским примерам, ей в известной мере свойственны и некоторые выразительные возможности.
Основными же специфическими формами выражения авторского отношения к изображаемому в сфере поэтического языка служат синонимия, антонимия и омонимия.
2. Синонимия, или Как пушкинская "кобылка бурая" превратилась в "нетерпеливого коня"?
Синонимами (от греч. synonymos — одноимённый) в поэтическом языке принято называть слова, имеющие одинаковое или близкое реально-логическое значение, но обладающие разной стилистической окраской. В сущности, выбирая для элементарной номинации слова, писатель в первую очередь прислушивается к их стилистическим обертонам.
Слово, претендующее на то, чтобы изобразить определённое явление и выразить определённое к нему отношение автора или действующего лица, должно быть уместным не только по смыслу, но и по стилистической ситуации.
Тургеневский Герасим, собравшийся утопить Муму, мог сесть в лодку, но отнюдь не в гондолу, ладью или даже чёлн, вполне уместный, скажем, в экспозиции «Медного Всадника». Одни из самых, несомненно, частотных в повествовательной прозе, насыщенной диалогическими партиями персонажей, слова сказал, проговорил имеют, к счастью, широкий спектр синонимов, позволяющий избежать докучного однообразия всякий раз, как автор даёт возможность высказаться очередному герою: изрёк, произнёс, промолвил, воскликнул, откликнулся, промямлил, вякнул, сморозил, заявил, отрезал, провещал и тому подобное. Но принцип свободной комбинаторики тут не проходит. В каждом конкретном случае одни слова подойдут, а другие будут с негодованием отвергнуты как стилистически диссонирующие.
Впрочем, ситуативные нюансы одного и того же текста позволяют иной раз встретиться в непосредственной близости синонимам, стоящим в отдалённых стилистических рядах. Так, нейтральное слово лошадь, с одной стороны, имеет ряд стилистически высоких синонимов: жеребец, конь, скакун, Пегас и, соответственно, с другой стороны, синонимы стилистически противоположной окраски: кобыла, кляча, одр, дохлятина. Употребляя то или иное слово, писатель сообразуется с реальной жизненной ситуацией, контекстом произведения, его жанровой, стилистической характеристикой, наконец, с динамикой настроения лирического героя.
В одном из самых совершенных созданий пушкинского гения — стихотворении «Зимнее утро» развёртываются картины будничной, но по-настоящему прекрасной жизни, в которой любимая женщина ничем не уступает "северной Авроре", является навстречу ей "звездою Севера". И вдруг буквально на наших глазах происходит на первый взгляд необъяснимое чудо:
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня. . .
Незамысловатая "кобылка бурая" волшебным образом преображается в "нетерпеливого коня" (почти Пегаса!).
В чём дело? Может быть, Пушкин ошибся, забыл, что его лирический герой предложил героине прокатиться на "бурой кобылке", и заменил её "нетерпеливым конём" совсем из другой конюшни? Конечно же, нет. К концу стихотворения раздвигаются временные, пространственные и, само собой, эмоциональные рубежи повествования: быт переходит в Бытие. Пушкин как всегда тонко прочувствовал две стилистически нетождественные ситуации. В первом случае лирический герой обращается к любимой в реально-бытовой, интимной обстановке. Попробуй он сказать: "Но знаешь, не запречь ли в санки нетерпеливого коня?" — собеседница на него выразительно бы посмотрела. Во втором случае, наоборот, высокий восторг, поэтическое воодушевление и пафосный тон сообщения ("предадимся бегу") не допускают будничную "кобылку", к тому же конкретно "бурую"!
Речь, таким образом, идёт об одном и том же животном, названном, однако, по-разному — в соответствии с изменившимся настроением лирического героя. Родовая принадлежность здесь не имеет ровно никакого значения. Да мы её обыкновенно и не замечаем, как не замечаем аналогичного разночтения в уже упомянутой пушкинской элегии «К морю» ("свободная стихия" — "океан" — "море").
Те или иные единицы поэтической лексики, слова одного и того же синонимического ряда, но разной стилистической ориентации тяготеют, соответственно, к разным художественным системам: "Фет 46 раз упомянул в своих стихах слово «конь» и ни разу не заметил, что вокруг него бегают и лошади. Конь — изысканно, лошадь — буднично".
Стилистически контрастные пары с абсолютно тождественной семантикой составляют старославянские и русские дублеты. По большей части это обозначения внешнего облика человека: глава–голова, чело–лоб, власы–волосы, очи–глаза, ланиты–щёки, выя–шея, рамена–плечи, длань–ладонь, десница–правая рука, шуйца–левая, перст–палец, перси–грудь. . . Славянизмы, по традиции, теоретически осмысленной ещё М. В. Ломоносовым в его учении о "трёх штилях", употребляются в торжественной, пафосной речи, в то время как их русские аналоги — в нейтральном или стилистически сниженном контексте. Намеренное пренебрежение этим правилом приводит к травестийному либо бурлескному комическому эффекту.
В романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок» переживший любовную катастрофу Васисуалий Лоханкин заговорил белым пятистопным ямбом, художественным языком. . . высокой трагедии. Обращаясь к сопернику, который отбил у него содержавшую его жену, он по инерции пользуется высоким старославянским словом выя, но тут же спохватывается и "переводит" его в ситуативно более уместный стилистический регистр: "Уйди, Птибурдуков, не то тебе по вые, по шее то есть, вам я надаю!" Замечательно, что в первом случае высокая выя сочетается с низким тебе, а во втором, наоборот, низкая шея с высоким вам.
Как видим, синонимия представляет собой исключительно действенное выразительное средство поэтического языка; с его помощью автор выражает любые оттенки своего отношения к изображаемому. Не менее активна в этом смысле и антонимия.
3. Антонимия, или Почему Онегин и Ленский сошлись как "волна" и "камень"?
Антонимами (от греч. anti + onyma — против + имя) в лексикологии принято называть слова одной части речи, но противоположные по значению: враг–друг, верх–низ, светлый–тёмный, громко–тихо, весело–грустно, спешить–медлить, над–под. В антонимические отношения могут вступать существительные, прилагательные, глаголы, наречия, лексемы категории состояния и даже предлоги, важно, чтобы они обозначали качество и имели разные корни (приятный–неприятный в строгом смысле этого понятия, конечно, не антонимы). Некоторые многозначные слова имеют по нескольку антонимов. Например: добрый—злой, добрый—жадный, добрый—худой (мир), добрый—плохой (конь) и так далее.
В поэтической речи явление антонимии расширяется за счёт окказиональных слов, имеющих противоположные значения только в определённом контексте. Если в лермонтовской строке "Мне грустно оттого, что весело тебе" образная антитеза опирается на антонимию общеязыковую, то противопоставление двух основных персонажей в «Евгении Онегине» живописуется уже при помощи окказиональной, авторской антонимии:
Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лёд и пламень
Не столь различны меж собой. . .
Другими факторами, расширяющими поэтическую антонимию, можно считать антонимические отношения разных частей речи и целых словосочетаний, стоящих за ними образов, поэтических стилей и художественных систем или, наоборот, снятие запрета на однокоренные слова и мнимую тавтологию.
Синонимы и антонимы ведут себя в поэтическом языке весьма и весьма свободно, переливаясь друг в друга, меняясь местами. Как отмечал Ю. М. Лотман, "в предельном случае <. . . > любое слово может стать синонимом (добавлю от себя: и антонимом. — О. Ф. ) любого. Если у Цветаевой в стихе «Там нет тебя — и нет тебя» — «нет тебя» не синоним, а антоним своему повторению, то у Вознесенского синонимами оказываются «спасибо» и «спасите»" (ЛотманЮ. М. Структура художественного текста. М. : Искусство, 1970. С. 41).
Принцип образного со-противопоставления, создающий в поэтическом тексте поле напряжённой семантической активности, нестандартных структурных ситуаций, допускает не только взаимопереход синонимии и антонимии, но и "беззаконное" неравенство слова самому себе. В маленькой трагедии Пушкина "Моцарт и Сальери" после кульминационной сцены отравления главные действующие лица обмениваются репликами:
М о ц а р т
. . . я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!
С а л ь е р и
До свиданья.
(Один. )
Ты заснёшь
Надолго, Моцарт!. .
Смысловой акцент принимают на себя синонимические обиходные выражения, принятые при расставании: Прощай же! и До свиданья. Обычно мы говорим "До свиданья", если расстаёмся ненадолго (буквально откладываем дела или несказанные слова до следующей встречи-свидания); выражение "Прощай" восходит к христианскому обычаю, расставаясь надолго, а то и навсегда, попросить прощения у собеседника за вольные или невольные прегрешения перед ним (на что иногда находится клишированный ответ: "Бог простит"). Но обратим внимание на то, как Пушкин распределил эти выражения между персонажами.
Моцарт, который, почувствовав недомогание, отправляется домой, чтобы прилечь и заснуть (набраться сил), должен по логике вещей рассчитывать на скорую встречу, и ему следовало бы сказать: "До свиданья". Наоборот, Сальери, отравивший Моцарта, наверняка зная, что в этой жизни он уже никогда не увидит своего друга, мог бы воспользоваться также более уместной формулировкой: "Прощай" или, подобно лирическому герою Иосифа Бродского, воспользоваться парадоксальным неологизмом: "До несвиданья в Раю ли, в Аду ли. . . " Но Пушкин поступил, казалось бы, вопреки очевидности, руководствуясь, скорее всего, иной, более глубокой художественной логикой.
Моцарт — гений, он обладает даром предвидения. Написанный им «Реквием», не являющийся за ним заказчик, Чёрный человек, тяжёлые предчувствия, томящие его последнее время, наконец, внятные ему муки зависти, которые не в силах скрыть Сальери, — всё это заставляет его сказать своё "Прощай". Он, жертва, просит прощения у своего палача за свой светоносный талант, доставшийся ему даром, за титанический труд посредственности, не приносящий Сальери удовлетворения, за внушённое ему искушение совершить суд, взяв на себя функции Всевышнего, мало ли ещё за что!
C другой стороны, и Сальери произносит своё "До свиданья" не из суперосторожности, не из лицемерия и даже не автоматически, по привычке, а имея в виду, всего вероятнее, неизбежную встречу по ту сторону жизни, где всё тайное становится явным и каждому воздаётся по заслугам. (Оба выражения — "Прощай же!", "До свиданья!" — сдублированы Пушкиным также в «Борисе Годунове», где Шуйский, прощаясь с Пушкиным, на которого завтра же донесёт царю, подхватывает его "Прощай" и добавляет своё лукавое "До свиданья", и в «Каменном госте», где, вырвав у Доны Анны поцелуй и услышав стук в дверь, Дон Гуан наспех прощается с ней: "Прощай же, до свиданья, друг мой милый". )
Так синонимы в поэтическом контексте обращаются в антонимы. Но и это ещё не всё. В антонимические отношения вовлекается одно и то же слово, дважды произнесённое сначала Моцартом, а затем Сальери, в прямо противоположном смысле. "Пойду засну", — говорит Моцарт, намереваясь преодолеть недуг, набраться здоровья. "Ты заснёшь надолго, Моцарт!" — отвечает ему Сальери, оставшись один, что в его устах означает: заснёшь и не проснёшься, заснёшь навсегда — умрёшь (именно в этом смысле употребляется расхожий эвфемизм "почить").
4. Омонимия и её разновидности, или За что Карандышев застрелил Ларису?
Cлова или формы слов, тождественные по звучанию и написанию, но совсем различные по значению, называются омонимами (от греч. homos + onyma — одинаковый + имя). Омонимия бывает полной и частичной. Полные омонимы совпадают и по написанию, и по звучанию, например град как вид осадков и град как старославянское обозначение города:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия. . .
(А. Пушкин. «Медный Всадник»);
коса как сельскохозяйственное орудие ("Коси, коса, пока роса!. . " — А. Твардовский), коса как узкая полоска суши, отмель и коса как сплетённые пряди волос ("Синенькая юбочка, // Ленточка в косе. . . " — А. Барто).
Причины возникновения омонимов весьма разнообразны. Это и
1) действие фонетических изменений: лук как оружие (lak) и лук как огородное или дикое растение (luk), и
2) совпадение в звучании, а затем и в русском написании слов исконных и заимствованных: клуб (пара) и клуб как организация по интересам (от англ. club) или, по аналогии, клуб как культурно-просветительское учреждение, и
3) совпадение заимствованных из разных языков слов, впоследствии обрусевших: кран (подъёмный — от нем. Khran) и кран (водопроводный — от голл. Kraan), и
4) заимствование уже готовых иноязычных омонимов: колонна как архитектурная деталь и колонна — выстроенная для марша совокупность людей, и
5) результат семантического развития того или иного слова: мир как антоним войне, мир как Вселенная, мир как крестьянская община.
Особую разновидность омонимов составляют одинаковые, но неравнозначные слова старославянского и русского происхождения. "И он послушно в путь потек. . . " — читаем мы в пушкинском «Анчаре», где потек, конечно, не метафора, а форма старославянского слова течь в прямом значении идти. Точно так же в переводе П. Катенина расиновской «Эсфири»: "Уста мои, сердце и весь мой живот // Подателя благ мне да Господа славят. . . " — славянизм живот означает не часть тела, как его русский двойник, а жизнь. Однако контекст провоцирует на превратно-комическое истолкование, на что не преминул обратить внимание дотошный критик А. Бестужев: "Переводчик хотел украсить Расина; у него даже животом славят Всевышнего. <. . . > Трудно поверить, что еврейские девы были чревовещательницами; но в переносном смысле принять его нельзя, ибо поющая израильтянка исчисляет здесь свои члены" («Сын Отечества». 1819. Ч. 51. № 3. 17 января. С. 114–115).
Наряду с полными омонимами различают три разновидности неполных: омофоны, омографы и омоформы.
Омофонами называют слова разные по написанию и значению, но одинаковые по звучанию. Например: плод—плот, порог—порок, док—дог, столп—столб, грусть—груздь, умалять—умолять, полоскать—поласкать, волы—валы.
Омографы, наоборот, слова, разные по звучанию и значению, но одинаковые по написанию (впрочем, иной раз, актуализируя значение, мы всё же проставляем ударение): урган как часть организма или, в советскую эпоху, периодическое печатное издание той или иной организации и орган как музыкальный инструмент в католическом храме или концертном зале; мука — размолотое для выпечки хлеба зерно и мука — мучение; замoк — запор для дверей и замок — укреплённое жилище средневекового рыцаря.
Наконец, омоформы представляют собой слова, совпадающие в звучании и написании лишь в одной или нескольких формах, но различающиеся в других; обычно они принадлежат к разным частям речи: простой как перерыв в работе (существительное) и простой как определённое качество (прилагательное); как нетрудно убедиться, они совпадают только в двух падежах, именительном и, частично, винительном (для прилагательных, обозначающих неодушевлённые предметы: Я нашёл простой выход).
Омонимы, омофоны, омографы и омоформы провоцируют активную игру слов и поэтому широко применяются при всякого рода каламбурных эффектах. Открывая вторую главу «Евгения Онегина» эпиграфом, Пушкин остроумно сталкивает цитату из Горация "O rus!. . " (в пер. с лат. "О деревня!") и созвучное ему русское восклицание: "О Русь!" — исподволь внушая читателю мысль, что истинная Русь — деревенская.
В «Бесприданнице» А. Н. Островского заглавная героиня, отказавшись от Карандышева, покинутая Паратовым, переживает жестокую душевную катастрофу. Личность раздавлена в ней. Лариса в отчаянии думает о самоубийстве. Не в силах сама наложить на себя руки, она сознательно доводит до бешенства Карандышева при помощи каламбура:
"Карандышев. Они не смотрят на вас как на женщину, как на человека, человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас как на вещь. Ну, если вы вещь, — это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто её выиграл, вещь и обижаться не может.
Лариса (глубоко оскорблённая). Вещь. . . Да вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя. . . Я вещь! (С горячностью. ) Наконец слово найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!
Карандышев. Оставить вас? Как я вас оставлю, на кого я вас оставлю?
Лариса. Всякая вещь должна иметь хозяина, я пойду к хозяину.
Карандышев (с жаром). Я беру вас, я ваш хозяин. (Хватает её за руку. )
Лариса (оттолкнув его). О нет, каждой вещи своя цена есть. . . Ха-ха-ха. . . Я слишком дорога для вас.
Карандышев. Что вы говорите! Мог ли я ожидать от вас таких бесстыдных слов?
Лариса (со слезами). Уж если быть вещью, так одно утешение — быть дорогой, очень дорогой. . . "
Обращаясь в письме к другу или любимому человеку "Дорогой!" или "Дорогая!", мы, упаси нас Боже, даже и не помышляем о его товарной цене, стоимости. Этот человек дорог нам не материально, а духовно. В словосочетаниях "дорогая вещь" и "дорогой человек" мы имеем дело, по существу, с антонимами, хотя и выраженными одним и тем же словом. Точно так же обращение "Бесценный друг!" отнюдь не подразумевает "бесплатный", а подчёркивает вполне тривиальную мысль о том, что духовную "цену" человека просто невозможно измерить.
На словах Лариса отождествляет себя с "вещью", но в своих сокровенных мечтах о любви, о счастье она остаётся человеком. Поэтому и говорит о том, что хотела бы быть "дорогой, очень дорогой" со слезами на глазах. Другое дело, Карандышев, только что бывший свидетелем купли-продажи своей невесты, которую у него на глазах цинично разыграли "в орлянку" Кнуров и Вожеватов. Слова Ларисы потрясают его своим "бесстыдством" ("Каждой вещи своя цена есть. . . Я слишком дорога для вас"), в нём оскорблено чувство собственника, у которого перекупили любимую игрушку за более высокую цену, хотя в глубине-то души он, конечно, надеялся, что его будут любить бескорыстно. Лариса добилась своего. Каламбур сработал. Карандышев нажал на спусковой крючок.
Омонимическая игра слов с необычайной интенсивностью оживляет речь в поэзии. Иногда это остроумная, приковывающая к себе внимание рифма, которая чаще всего украшает пуант в сложных строфических построениях типа октавы:
А что же делает супруга
Одна, в отсутствие супруга?
(А. Пушкин. «Граф Нулин»)
или онегинской строфы:
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем не прав.
Своим фирменным коньком считал каламбурные рифмы Дмитрий Минаев:
Область рифм — моя стихия
И легко пишу стихи я.
Без раздумья, без отсрочки
Я бегу от строчки к строчке.
Даже к финским скалам бурым
Обращаюсь с каламбуром.
В особом цикле, озаглавленном «Рифмы и каламбуры», он продемонстрировал действительно незаурядное мастерство в нанизывании омонимов в конце стиховых рядов.
Искусство подбирать омонимы, омофоны, омографы и омоформы не приходит само собой — оно есть результат кропотливого труда, изобретательности и целенаправленных тренировок.
В воспоминаниях Владимира Познера рассказывается о довольно любопытном эпизоде из жизни Горького. Обед. Горький "внезапно прерывает трапезу и с мечтательным меланхолическим видом начинает барабанить пальцами по столу. Один за другим все присутствующие замолкают и следят за ним украдкой: какую ещё новую штуку он готовит? Но даже самые недоверчивые видят: Алексей Максимович совершенно серьёзен, настолько, что даже перестаёт барабанить по столу и начинает покручивать усы. Наконец он говорит: знаете ли вы, что банк — муж банки? Так возникает игра в замужества: чай — муж чайки, пух — муж пушки, полк — муж полки, ток — муж точки, нож — муж ножки. . . Теперь уже несколько дней у всех наморщены лбы, отсутствующие взгляды, все безмолвно шевелят губами: сосредоточенно отыскивают новые сочетания".
5. Морфологические вариации слов, или Как умудрился булгаковский Бегемот быть одновременно "котиком", "котищем" и "котярой"?
Aвторское отношение к изображаемому, равно как и речевая характеристика персонажей, могут быть эффективнейшим образом выражены с помощью морфологических вариаций тех или иных слов. Одно из самых нам дорогих слов мать имеет, к примеру, множество вариаций: мама, мамочка, мамуля, матерь, матушка, мамка, матка, маточка и так далее. Все они имеют разную степень эмоциональной выразительности и стилистической уместности. Так, в названиях горьковского романа, построенного, как считают некоторые исследователи, по модели евангельского жития, и набоковского стихотворения, главной героиней которого является Богоматерь, адекватно фигурирует самый строгий вариант «Мать»; в названии пьесы Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и её дети» уместнее оказался другой вариант; наконец, в лексиконе Макара Девушкина, главного героя повести Ф. Достоевского «Бедные люди», в высшей степени органично звучит субтильное обращение маточка, равно как и в устах главного героя «Подростка» — Долгорукого — мамочка, мама. . .
Знаменитый персонаж «Мастера и Маргариты» кот Бегемот как в устах автора-повествователя, так и в устах многочисленных персонажей фигурирует под разными обозначениями: ". . . третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, чёрный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причём кот тронулся на задних лапах"; "И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувала Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой"; "В голове у него был какой-то сквозняк, гудело как в трубе, и в этом гудении слышались клочки капельдинерских рассказов о вчерашнем коте, который принимал участие в сеансе. «Э-ге-ге! Да уж не наш ли это котик?»"; "Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, чёрный котище".
Вместе с выразительными сравнениями и эпитетами разные морфологические формы слова кот создают объёмный образ этого фантастического персонажа и передают вместе с тем отнюдь не однозначное отношение к нему окружающих.
Сокровища словесной мастерской
Особые лексические ресурсы поэтического языка
В основе поэтического языка, так же, впрочем, как и разговорного, и литературного, лежат общеупотребительные слова, преображённые, однако, их ярко выраженной эстетической функцией. Значение этих слов общее для всех говорящих на данном языке. Поэтому для адекватного восприятия их словарного смысла читателем или слушателем любого образовательного уровня проблем обычно не возникает. Сложнее обстоит дело с наращениями и метаморфозами смысла, которым общеупотребительная лексика подвергается в художественном контексте. Здесь на помощь приходят эстетический опыт, начитанность и интуиция.
Помимо основного лексического фонда, поэтический язык включает в себя так называемые особые лексические ресурсы, аккумулирующие в себе слова периферийного, маргинального плана: или забытые за давностью времени, или, наоборот, ещё не вошедшие в активное употребление, или принадлежащие узкому кругу пользователей; таковы, в частности, условные словообразования представителей редких профессий, деклассированных элементов общества, а то и вовсе индивидуальные изобретения. Особые лексические ресурсы, как правило, исключены из литературного языка, но стихийно, бессистемно функционируют в языке разговорном, оставаясь достоянием разных общественных групп. Художественная литература, используя их в поэтическом языке, производит, таким образом, интегрирующую работу, расширяя круг людей, для которых эти слова становятся внятными. С другой стороны, в сфере поэтического языка они получают соответствующие художественные функции.
Особые лексические ресурсы классифицируются внутри себя по четырём основаниям:
1) историческому: славянизмы, архаизмы, историзмы и неологизмы;
2) географическому: диалектизмы и провинциализмы;
3) национальному: варваризмы и макаронизмы и
4) социальному: просторечия, вульгаризмы, профессионализмы и арго.
Впрочем, диалектизмы можно было бы дополнительно учитывать и по социальной группе, а варваризмы — и по географической.
1. Славянизмы, архаизмы, историзмы
С течением времени любой национальный язык довольно значительно изменяется. Не случайно, например, различают древнегреческий, среднегреческий (койне) и новогреческий языки. А тексты древних литератур приходится буквально переводить на современные языки (с древнеанглийского на современный английский, с древнерусского на современный русский и так далее). Каждое слово имеет свою историю, конкурирует с другими словами, борется за место под солнцем, попадает в активный фонд национального языка, отступает в "запасники", вновь возвращается, обогащается несвойственными ему раньше смысловыми и стилистическими оттенками, иной раз полностью изменяя своё значение и — до неузнаваемости — форму. . . Перипетии этой полной таинственных приключений жизни ведомы, как правило, лишь специалистам.
Есть, однако, в языке словаR, историческая приуроченность которых более или менее актуальна. Таковы прежде всего славянизмы — слова, старославянское происхождение которых ощущается и соответствующим образом переживается говорящими.
Живо интересовавшийся исторической стилистикой родного языка М. В. Ломоносов различал церковно-славянские слова общепонятные (рамена, вежды, ланиты, уста, очи) и "невразумительные" (рясно, то есть обильно, обаваю, то есть очаровываю). Как уже отмечалось, славянизмы имеют русские синонимы: глас—голос, враг—ворог, праг—порог, брег—берег, млеко—молоко, надежда—надежа, нощь—ночь, могущий—могучий. Иногда они расходятся в значениях: прах—порох, страна—сторона, власть—волость.
Славянизмы имеют в поэтическом языке три основные функции.
1. Обильное их употребление в соответствующем контексте создаёт впечатление речи отдалённых веков, архаизирует повествование. Вот почему Н. Гнедич в своём переводе гомеровской «Илиады» насыщает его славянизмами, хотя повествуется не о славянской, а о греческой древности. Переводивший вслед за ним «Одиссею» Жуковский ставил перед собой задачу несколько осовременить звучание "божественной эллинской речи" в русском эквиваленте, но и он учёл опыт своего предшественника.
2. Другая не менее очевидная художественная функция славянизмов связана с тем, что конфессиональным языком Русской Православной Церкви с глубокой древности был старославянский, а потому служил и служит до сих пор профессиональным языком церковников. Вот почему, изображая даже не самых достойных служителей культа в «Борисе Годунове», Пушкин пересыпает их речь со смаком произносимыми славянизмами: "Варлаам. Плохо, сыне, плохо! ныне христиане стали скупы; деньгу любят, деньгу прячут. Мало Богу дают. Прииде грех велий на языцы земнии. Все пустилися в торги, в мытарства; думают о мирском богатстве, не о спасении души. Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три дни трёх полушек не вымолишь. Такой грех! Пройдёт неделя, другая, заглянешь в мошонку, ан в ней так мало, что совестно в монастырь показаться; что делать? с горя и остальное пропьёшь; беда, да и только. — Ох плохо, знать пришли наши последние времена. . . "
3. Третья, и самая важная, художественная функция славянизмов была выявлена Ломоносовым, навсегда связавшим их с "высоким штилем". Действительно, целенаправленное нагнетание церковно-славянских слов вместо их русских синонимов сообщает поэтической речи торжественность, величавость и необыкновенную, почти литургическую серьёзность тона:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,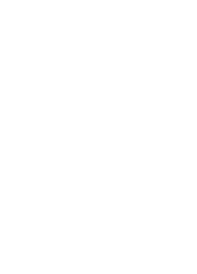
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
За славянизмами восстань, виждь, внемли, а также глаголом маячат их русские заместители: поднимись, смотри, слушай, словом. Представим на минуту, что Пушкин отдал предпочтение этому второму ряду. Что бы получилось?
Поднимись, смотри и слушай,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и сушу,
Ты словом жги сердца людей!
Кощунственно изменённый нами катрен в мгновение ока увял, утратил всю свою библейскую мощь, высокую экстатичность, стилистическую приподнятость — всё то, что можно ожидать из уст "шестикрылого серафима". . .
Однако славянизмы могут выступать и в вовсе не свойственной им функции травестийного снижения неуместно высокого пафоса повествования. В этом случае они дискредитируются переводом на намеренно бытовой стиль. После того как затаившаяся в саду Татьяна прослушала пресловутую «Песню девушек» (вот-вот появится, "блистая взорами", Евгений!), Пушкин следующим образом комментирует её состояние:
Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит. . .
Так бледный мотылёк и блещет
И бьётся радужным крылом,
Пленённый школьным шалуном;
Так зайчик в озиме трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадшего стрелка.
Сходные со славянизмами художественные функции выполняют в поэтическом языке архаизмы и историзмы. Архаизмами (от греч. archaios — древний) называют слова, вытесненные позднее из активного словарного фонда другими словами, хотя явления и понятия, ими обозначаемые, продолжали существовать. Так, характерное для XVII–XVIIIвеков слово фортеция вынуждено было уступить, кстати, более старому, исконно русскому слову крепость. Современное языковое сознание числит его по ведомству архаизмов, хотя оно и много моложе своего преемника. Примерно те же метаморфозы произошли со словами сатисфакция (удовлетворение), зараза (прелесть, очарование, обаяние), ласкательство (лесть). От архаизмов следует отличать историзмы — слова, обозначающие явления отдалённого исторического прошлого, потерявшие актуальность в настоящее время. Например: стрельцы, опричники, тризна, гридни, бояре, фрейлины, целовальник, стряпчий, окольничий. Нельзя, впрочем, исключить возможность возрождения как некоторых явлений, так и маркирующих их слов (на наших глазах возвращаются в активный речевой обиход попавшие было в историзмы слова дьяк, пристав, думцы, губернатор).
Архаизмы и историзмы — самый расхожий материал для создания исторического колорита. Разбавляя ими слова основного лексического фонда, авторы произведений на исторические темы имитируют язык и стиль давно отшумевших эпох: «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Петр I» Алексея Толстого, «Зодчие» Д. Кедрина, «Мастера», «Лобная баллада» А. Вознесенского.
2. Неологизмы
По другую сторону неумолимо последовательного течения времени располагаются неологизмы (от греч. neos — новый) — новые слова. Различают два вида неологизмов:
1) общеязыковые, естественно возникающие и закрепляющиеся в литературном языке слова для обозначения новых понятий и явлений, и
2) индивидуально-авторские — слова, которые изобретают главным образом писатели для одноразового употребления.
Общеязыковые неологизмы постоянно обогащают национальный язык: с появлением новых понятий возникает необходимость в их словесном обозначении. Каждая эпоха в принципе приходит со своими неологизмами. Некоторые из них закрепляются в языке и даже пополняют его основной фонд, лишаясь тем самым своего неологического статуса. Другая, большая часть сохраняет аромат породившего их времени и даже спустя несколько поколений переживается как искусственные, неорганичные вкрапления.
Едва ли не самую большую "инъекцию" неологизмов русский язык получил в ходе "культурной революции" после Октября 1917года. Кардинальная смена власти в стране привела к переименованию практически всех государственных и общественно-политических учреждений, должностей, званий и так далее, и тому подобное. Самой продуктивной формой новообразований стали аббревиатуры, сати